Борис Игоревич Макаренко — первый заместитель генерального директора Центра политических технологий
Опыт показал, что демократизация общества в качестве концептуальной основы для реформ в постсоциалистических странах стала вызывать все больше споров и сомнений. В связи с этим как в политической науке, так и в политической практике возникла необходимость более глубокого и всестороннего анализа характера демократического транзита, который продемонстрировал многообразие форм, разные скорости преобразований и даже последующее изменение их изначального вектора. Вместе с тем общая мозаика сходных процессов и особенностей развития позволяет типологизировать страны по степени их демократизации, выявить характерные черты «цветных революций» и прийти к определенным выводам относительно будущего.
Переход к демократии: политика и политология
Череда «цветных революций», произошедших в последние годы в соседних с Россией странах, вновь поставила на повестку дня интеллектуальных дискуссий подзабытый вопрос о закономерностях развития государств бывшего «лагеря социализма». До сего момента сравнительный анализ «демократического транзита» остается одной из самых малоизученных тем в отечественной политологии [1]. Вряд ли это можно счесть случайностью или объяснить нелюбовью к дисциплине в целом. Осмелимся предположить, что дело в специфике транзитологии как субдисциплины политологической науки. Она — если не вербально, то имплицитно задает систему координат, в которой успехом считается приближение той или иной страны к идеальной модели либеральной демократии западного образца, а любая стагнация, отсутствие прогресса в этом движении, тем более развитие событий в противоположном направлении рассматриваются как неудача. Тем самым здесь присутствует некая идеологическая детерминированность, с которой в России (да, наверное, и на всем пространстве СНГ) согласны далеко не все.
На самом деле западная политическая наука гораздо гибче, интеллектуально мудрее и деликатнее в анализе незападных обществ. Однако, справедливости ради, отметим, что литература последних полутора десятилетий (условно периода «третьей волны демократизации») действительно более однозначна в использовании модели либеральной демократии как норматива и ориентира для иных типов общественного устройства. Это неудивительно, поскольку с падением коммунистической системы демократия лишилась телеологической альтернативы, а потому осталась «единственной игрой в городе».
Успех «цветных революций», с одной стороны, породил определенную эйфорию на Западе, а с другой — спровоцировал (во многом в качестве защитной реакции на эту волну) усиление новых течений общественно-политической мысли. По сути, они отрицают (в мягком варианте — ставят под серьезное сомнение) обоснованность самой системы координат, в которой желательным вектором развития признается демократизация или консолидация демократии.
Такое отрицание, как правило, проявляется по трем основным направлениям. Во-первых, подвергается критике качество западной демократии (например, драматический опыт «ничейных» выборов в США в 2000 г., некоторые ограничения гражданских свобод после событий 11 сентября). Во-вторых, с той или иной степенью жесткости отвергается правомочность «навязывания» демократии (от содействия оппозиционным организациям в зарубежных странах и звучащей на Западе критики в их адрес по поводу авторитарных проявлений до «установления демократии» силой, как в Ираке, на Балканах или Афганистане). Наконец, в-третьих, делаются заявки на некую «национальную модель» демократии. Правда, в большинстве своем «национальная специфика» преподносится в виде неких идеологических штампов («государственничество», «соборность», «евразийство», уважение традиционных авторитетов) и практически никогда не развертывается в сколь-либо цельные системы государственного или общественного устройства. На самом деле, это лишь попытка идейно обосновать отклонения от классических канонов демократии или откровенно авторитарные черты собственных политических режимов и защитить их от критических слов или действий со стороны Запада.
В течение 2005 г. такая практика «критики демократии» поднялась до уровня концептуальных обобщений, высказываемых высокопоставленными государственными чиновниками, причем имеющими репутацию интеллектуалов и либералов. Об экспорте демократии заговорили как о «форме неоколониализма XXI века»; стало признаваться, что «нам больше не удастся кокетничать демократическим выбором» [2]. Устами заместителя руководителя администрации президента была заявлена концепция «суверенной демократии», в которой отсутствие прогресса в демократизации объясняется страхом утраты национального суверенитета и развала России. Тем самым признается, что «демократизация», использовавшаяся на протяжении прошедшего десятилетия как концептуальная основа для реформ, утрачивает эту роль.
По сути, во всех этих случаях преследуется одна цель: ослабить привлекательность «Запада» как нормативной модели, к которой может стремиться общество. Представляется, что такая установка, тем более вынесение ее на стратегический уровень, диктуется не только геополитическими соображениями, хотя нарастание трудностей и противоречий в отношениях России с Западом в последние годы имело место. Речь идет о глубокой озабоченности российского правящего класса заметными признаками тупика как во внутриполитическом, так и во внешнеполитическом положении страны.
В первых исследованиях феномена «цветных революций» справедливо указывается на то, что они символизируют завершение процесса превращения бывших советских республик в независимые государства и сознательный выбор некоторых из них в пользу западной модели развития [3]. Подчеркнем наиболее существенный момент: для определения вектора, хода и до некоторой степени темпа посткоммунистического развития государств одним из самых главных факторов становится выбор цивилизационной модели. В этой связи для оценки нынешнего положения России важными представляются два обстоятельства.
Первое, наиболее существенное, — роль и место России как не просто великой державы, но «цивилизационного полюса». Таковым Россия являлась на протяжении долгого исторического срока для большинства соседей — как центр империи, колониальная метрополия, покровительница славян и православных, наконец, как центр коммунистической системы (разумеется, эти множества в значительной степени накладываются друг на друга). Однако, послужив стимулом к началу трансформационных процессов, Россия не стала для большинства соседей моделью для подражания, более того, за прошедшее десятилетие она практически утратила роль «цивилизационного центра». На пространстве бывшего СССР Россия сохраняла влияние не только как самая сильная держава региона, но и как культурно-историческая «экс-метрополия», даже несмотря на подчеркнутое стремление практически всех бывших советских республик утвердить свою идентичность в иных цивилизационных координатах (европейских, тюркских и т. д.).
Второе обстоятельство можно назвать «фактором европейского выбора». В узком смысле европейским выбором был сознательный возврат большинства стран Центральной Европы и Прибалтики к историческим формам своей государственности, вписанным в общий контекст политической традиции континентальной Европы. И в целом дизайн политического строя, а во многих случаях и конкретные партии «копировались» с моделей 20-30 годов ХХ в. (точнее, тех элементов демократии и общественных традиций, которые оказались пригодны для современного государственного строительства).
Однако более важен расширительный смысл понятия «европейский выбор». Посткоммунистическая модернизация в странах Центральной Европы воспринималась большинством общества как приближение к «большой Европе», что отражало широкий консенсус относительно вектора политических и экономических реформ. Соответственно политическая борьба была сведена к конкуренции конкретных программ и лидеров, подчиненной «детерминанте вхождения в Европу». Такая детерминанта задавала достаточно жесткие ограничители как правилам поведения политического класса, так и содержательному наполнению их политики. Во всех этих странах сложился государственный строй в форме парламентской или президентско-парламентской республики. Такой контекст политической жизни способствовал формированию реального плюрализма, регулярным сменам власти через выборы и в конечном счете привел к «первичной интеграции» этих стран (за двумя исключениями) в «пространство Запада» (НАТО и Евросоюза).
В отличие от Центральной Европы, для СНГ «европейский вектор» носил характер абстрактной цели, а не конкретной политической программы. В азиатской части СНГ культурно-историческая традиция подсказывала выбор в пользу режима жесткой личной власти с существенными авторитарными элементами. В Закавказье становление новых политических режимов осложнялось войнами на этнической почве, долгосрочным нарушением государственной целостности в двух из трех этих государств и государственными переворотами (в Грузии и Азербайджане — в чистом виде, в Армении — «заретушированном»).
Что же касается трех славянских государств, в них возобладали не консенсусные модели, как в Центральной Европе, а, напротив, предельная поляризация по вопросам реформ. Так, Белоруссия достаточно быстро «откатилась» к авторитарному режиму, свернувшему реформы, а в России и на Украине подобные поляризации доминировали на протяжении всех 90-х годов (хотя отличия между этими двумя государствами скорее нарастали, чем смягчались). Характерно, что во всех трех странах государственный строй принял форму президентской республики, лишь в некоторых из них парламенты имеют сколь-либо существенное влияние на деятельность исполнительной ветви власти.
Нетрудно заметить, что граница между странами с «европейским выбором» и прочими совпадает с границами СССР 1939 г. Молдавия, которая была в это время разрезана между СССР и его соседом, и ныне представляет собой некую промежуточную зону. Кстати, это одна из двух стран СНГ, менявшая за время посткоммунистического развития форму государственного устройства (с президентско-парламентского на парламентский, но с необычно сильным для парламентской демократии президентом).
Два упомянутых исключения — это прошедшие через кровопролитные этнические войны государства из числа республик бывшей Югославии. Однако в Боснии и Герцеговине международный протекторат позволил хотя бы начать сближение этнических субъектов конфедерации. Напротив, в Сербии и Черногории центробежные процессы продолжаются: весьма вероятен распад фактической конфедерации двух республик, и, кроме того, неопределенно будущее Косова, также находящегося под международным протекторатом.
В предлагаемой таблице нами сделана попытка классификации итогов посткоммунистического транзита в 27 государствах, территории которых в прошлом принадлежали к «социалистическому лагерю». В основе классификации — степень консолидации демократии под углом зрения «теста двух передач власти», предложенного С. Хантингтоном [4], и сохранения целостности нации. В 13 странах двух первых категорий транзит можно считать успешно завершенным или необратимо приближающимся к завершению. Это не значит, что все проблемы модернизации и демократизации в названных странах успешно решены; каждой из них присущ уникальный набор острых социально-экономических проблем, а их «европейскость» можно считать «авансированной» со стороны старой Европы (хотя, разумеется, степень такого «аванса» весьма различна). Однако нет сомнений, что эти проблемы будут разрешаться уже в рамках демократической политики.
Типология транзитов на постсоветском пространстве
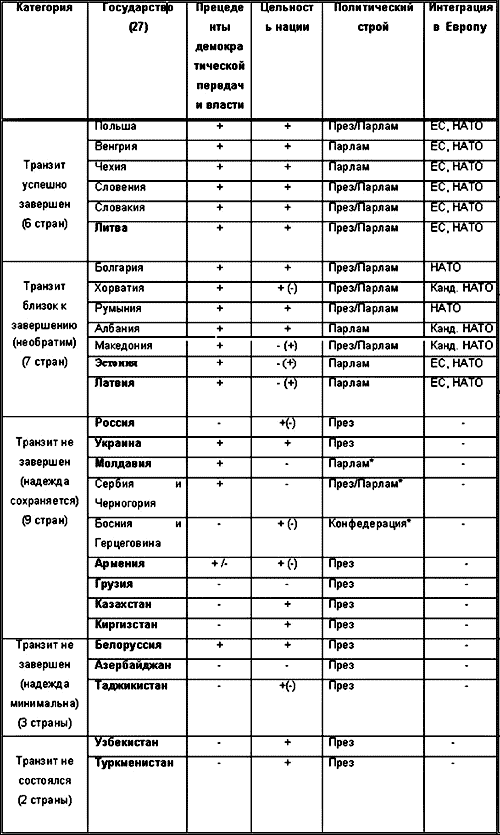
Примечания
+ /- передача власти, лишь внешне выглядящая демократической.
+ (-) целостность нации восстановлена после серьезных потрясений.
— (+) целостность нации не достигнута, но ситуация улучшается
* государственный строй претерпевал серьезные изменения за время переходного периода.
През — президентская республика
Парл — парламентская республика
През/Парлам — президентско-парламентская республика
В пяти государствах двух последних категорий можно считать сложившимися авторитарные режимы большей или меньшей степени жесткости.
Наконец, есть некоторая промежуточная категория «застрявших в транзите» стран, которые не стали консолидированными демократиями, но и не утеряли возможностей продолжить движение в этом направлении. Среди них два упомянутых балканских государства, в которых не завершен процесс государственного строительства, и семь государств СНГ. Именно в этой «семерке» в последние годы произошли три «цветные революции», практически всем остальным такая революция предсказывается с той или иной степенью настойчивости.
Следовательно, с позиций транзитологии две первые и две последние категории менее интересны, чем промежуточная, — именно в этих странах транзит еще далек от завершения.
«Цветные», но революции ли?
Итак, попытаемся определить феномен «цветных революций» в контексте демократического транзита. Прежде всего оговоримся, что их, по нашему мнению, следует четко отделять от «бархатных революций» пятнадцатилетней давности — коллективных действий активного меньшинства населения центральноевропейских стран, подтолкнувших коммунистические режимы к «мягкой» (в этом смысл понятия «бархатной») уступке власти тем силам, которые получали большинство на первых конкурентных выборах.
На территории бывшего СССР «бархатных революций» как таковых не было: внутри распадающегося советского строя сформировались альтернативные институты власти (парламенты и в большинстве республик всенародно избранные президенты), а провал путча в Москве в августе 1991 г. («мини-бархатная революция») привел к окончательному демонтажу союзных структур, после чего республиканские органы власти автоматически стали институтами новых государств. Однако во всех случаях — как в СССР, так и в Центральной Европе — речь шла о демонтаже тоталитарного строя, на место которого через первые конкурентные выборы приходил новый — транзитный — общественно-политический уклад.
Таким образом, не подлежит сомнению, что «бархатные революции» все же были революциями: они меняли общественный строй. При этом в ряде случаев (Центральная Европа, Прибалтика, Закавказье) менялась и властная элита, в других же случаях (Центральная Азия, Украина, Белоруссия, Молдавия) у кормила власти закреплялся тот слой партийно-советской номенклатуры, который поднялся наверх в последние годы перестройки. Смена элит в России была неким смешанным типом — промежуточным между революционным и эволюционным. Такой тип в международной транзитологии описывается как «замещающий» (transpacement — у С. Хантингтона, extrication у Шера и Мейнваринга).
«Цветные» же революции отличаются тем, что смены общественного строя при них не происходит, а смена элит носит ограниченный характер: власть переходит от одного элитного клана, занимавшего в системе власти доминирующее, даже почти монопольное положение, к некой спонтанной коалиции других сегментов элиты. Государственный строй в результате таких действий может претерпевать лишь частные изменения, направленные на ограничение возможностей для монополизации власти и создание рамок для функционирования коалиционных властных структур — таких, как законодательные поправки на Украине или соглашение о перераспределении полномочий между президентом и премьером в Киргизии (впрочем, как показано далее, киргизский случай нельзя считать «цветной революцией» в полном смысле этого слова). Кстати, подобный аргумент использовал заместитель руководителя администрации президента В. Сурков, отрицая революционный характер «цветных событий». Правда, далее он трактовал их в терминах «восстания» и «переворота», с чем позволим себе поспорить.
Главное содержание таких «революций» — коллективные действия с «выходом на улицу», направленные на срыв попыток фальсификации результатов общенациональных выборов. Оппозиционеры требуют не смены строя, а напротив, соблюдения важнейшей из конституционных норм — честных выборов. Пафос революционной улицы и ее вождей из политического класса — легитимизм, даже если сами «революционеры» и нарушают определенные нормы закона (например, повторное голосование второго тура президентских выборов на Украине не предусматривалось никакими законами). Однако если что и уподобляет подобные события революциям, то не отступления от буквы закона, а массовый эмоциональный порыв, направленный против власти, состояние коммунитас [5], в котором пребывает улица. Итак, определяющей чертой «бархатных революций», судя по устоявшемуся термину, является их «мягкость», ненасильственность, а «цветные революции» прежде всего характеризуются яркостью, способностью в краткие сроки переломить ход событий, казавшийся неизбежным.
Выход из «тупика демократизации»
Базовый сценарий «цветной революции» можно обозначить следующим образом: режим с сильными авторитарными чертами пытается остаться «у кормила» путем фальсификации результатов общенациональных выборов; оппозиция мобилизует значительное число сторонников на коллективные действия и в конечном счете добивается ухода прежнего руководства от власти. В этот сценарий вписываются «четыре с половиной» события. Первой «цветной революцией» (впрочем, не получившей такого названия) было отстранение в 1986 г. от власти президента Филиппин Ф. Маркоса (который уже был объявлен победителем). Второе событие — признание победы в первом туре кандидата от оппозиции В. Коштуницы над действующим президентом С. Милошевичем в Югославии в 2000 г.; третье — частичная отмена результатов парламентских выборов и вынужденно-добровольная отставка президента Э. Шеварднадзе в Грузии в 2003 г.; четвертое — проведение переголосования второго тура президентских выборов и победа оппозиционного кандидата В. Ющенко на Украине в 2004 г.
Уход от власти президента Киргизии А. Акаева и отмена результатов только что прошедших парламентских выборов не может в полном смысле считаться «цветной революцией», несмотря на то, что оппозиция активно использовала ее внешнюю канву и риторику. Низложение прежнего режима было достигнуто не благодаря солидному масштабу коллективных действий и политическому авторитету оппозиционных лидеров, а в результате насильственного захвата толпой президентского дворца (от подобных действий последовательно воздерживалась оппозиция в четырех перечисленных случаях).
Общим для всех режимов, павших в результате «цветных революций» был их полуавторитарный характер. Действовавшая власть обладала доминирующими позициями в ущерб духу, но не обязательно букве формально демократических конституций, в целом сохранялись существенные элементы плюрализма. Вместе с тем этим режимам в той или иной степени были присущи элементы авторитаризма:
— предельно расширенная сфера компетенции центральной исполнительной власти (исключение — федеративная Югославия, в которой каждая из республик имела достаточно широкую автономию), что породило, с одной стороны, слабость системы политических партий, а с другой — пресловутый «административный ресурс», т. е. возможность давления на политическое поведение нижестоящих звеньев власти;
— сращивание отношений власти и собственности, что особенно характерно для бывших советских республик, в которых формирование рыночных отношений, основанных на частной собственности, фактически не было завершено;
— преобладающее влияние исполнительной власти в медийном пространстве, в первую очередь контроль над общенациональными телеканалами;
— «мобилизационная идеология», позволявшая режиму обосновывать необходимость «национального единства» перед лицом общей опасности (Югославия и Грузия в недалеком прошлом пережили гражданские войны, разрушившие территориальную целостность страны; на Украине неуклюжая пропаганда команды В. Януковича, усиленная российскими СМИ, пыталась — правда, весьма плачевно — создать виртуальную картину такой угрозы; в Киргизии во время, предшествующее выборам, официальная пропаганда нагнетала страх перед «оранжевой революцией», также, похоже, помогая «накликать беду».
В то же время всем этим странам были присущи и немалые элементы политического плюрализма, которые позволяли оппозиции действовать и внушали веру в свои силы:
— регулярные выборы, которые стали привычными для всего населения, более того единственно возможной формой легитимного обретения власти;
— некая демократическая традиция или, во всяком случае, примеры «работающей демократии» (успешная смена власти в 1994 г. на Украине, успехи оппозиционных сил на парламентских и местных выборах в Югославии, в Киргизии, возможно, роль сыграла репутация «самой демократичной страны Центральной Азии»);
— плюрализм политических сил, причем не ограничивающийся только деятельностью оппозиционных партий (зачастую весьма слабых). Идейно-политическое размежевание в элите, опиравшееся на реальные водоразделы в обществе: «Восток» и «Запад» (при всей условности этих понятий) на Украине, «Север» и «Юг» в Киргизии, принципиально разное видение будущего своих стран в Югославии и на Филиппинах. Такой плюрализм становится базой и для размежевания политических элит, часть которых делает ставку (в том числе и финансовую) на оппозиционного лидера и/или коалицию;
— определенный плюрализм в СМИ, особенно печатных. Независимый от властей телевизионный канал на Филиппинах сыграл едва ли не решающую роль в управлении действиями массы сторонников оппозиции, а на Украине важную миссию выполнял «Пятый канал»;
— относительно развитое гражданское общество. На Филиппинах свою роль сыграли и устоявшиеся корпорации свободных профессий, и широкие коалиции против иностранных военных баз (по сути, площадки для формирования системы связей), но особенно — автономная от режима Ф. Маркоса католическая церковь. На Украине, в Югославии, Грузии возникали широкие молодежные движения. Именно эти силы обеспечили «пехоту» для массовых выступлений;
— выдвижение политической альтернативы (лидера и команды) как результирующего фактора проявлений плюрализма. Ее и элиты, и общество воспринимали как сопоставимую с действующей властью по электоральному потенциалу и пригодную по своей компетентности к государственному управлению (возможно, за исключением Киргизии). Характерно, что на смену павшим режимам приходили не «аутсайдеры», а лидеры с немалым общественным авторитетом — экс-премьеры В. Ющенко и К. Бакиев, экс-министр М. Саакашвили. В прочих случаях «послужной список» лидеров скромнее — для их подъема сыграла роль безукоризненная репутация оппозиционеров (вдова лидера филиппинской оппозиции сенатора Акино и депутат югославского парламента В. Коштуница).
Анализ баланса авторитарных и демократических элементов убедительно показывает, почему «цветные» события невозможны ни в сложившихся демократиях (там авторитарные элементы минимальны, а потому смена власти через выборы происходит естественным путем), ни в авторитарных режимах (там у оппозиции недостаточно ресурсов и возможностей, чтобы «вырасти» в политическую силу, способную соревноваться за власть «почти на равных»). Следовательно, если в этих странах сложится революционная ситуация, то революция станет не «цветной», не «бархатной», а полномасштабным переворотом. Собственно, из пяти рассматриваемых случаев Киргизия, где элементы плюрализма были слабее всего, не избежала насилия ни в момент свержения прежней власти, ни непосредственно после этого, а потому нельзя считать этот случай «цветной революцией» в чистом виде.
Итак, удавшиеся «цветные революции» были ничем иным как победами над авторитаризмом прежней власти. Страны, которые на протяжении предшествовавших «цветной революции» лет находились в «тупике транзита» и накапливали авторитарные элементы, получили новый и достаточно мощный толчок к демократизации.
Характерные черты «цветных революций»
Поражением авторитарных тенденций не исчерпывается значение «цветных революций» для судеб демократического транзита. Первое и, возможно, самое масштабное из их проявлений — это ощущение обществом (точнее, его значительной частью) тупиковости инерционного развития. Практически все режимы, павшие в результате «цветных революций», пали не потому, что они были полуавторитарными (таковых много и на постсоветском пространстве, и вне его, и далеко не всем из них грозят аналогичные революционные события). Общество потребовало и добилось ухода этих режимов от власти, поскольку утратило доверие к ним.
Югославский и грузинский режимы не могли преодолеть последствий катастрофических событий минувшего десятилетия и позволить своим странам лечь на «европейский курс». В Украине ключевым фактором стал выбор между «европейским» и «неевропейским» (и лишь постольку, поскольку «пророссийским») путем, который оказался для общества более важным, чем неплохие показатели экономического роста и повышение социальных платежей правительством В. Януковича. Все эти режимы имели неважную репутацию из-за высокой коррумпированности. К неуспешности политического курса практически во всех случаях добавлялся и личностный «износ» лидеров: Ф. Маркос, С. Милошевич, Э. Шеварднадзе, Л. Кучма к моменту своего заката были достаточно одиозными фигурами, прошедшими через многочисленные как чисто политические, так и криминальные скандалы. Например, определенную роль сыграло и криминальное прошлое кандидата в преемники Л. Кучмы В. Януковича.
Из этого ряда явно выпадает Киргизия: в стране не наблюдалось мощного общественного запроса на «европеизацию» или «модернизацию» (разумеется, такие знамена поднимались лидерами оппозиции, но нет оснований говорить об их широкой общественной поддержке). А. Акаев сохранял достаточно высокий авторитет в обществе и не имел «одиозных» черт — еще одно существенное отклонение киргизской ситуации от всех остальных. Однако именно Киргизия позволяет содержательно дополнить характеристику этого параметра революционной ситуации: во всех рассматриваемых странах основная масса населения ощущала себя обездоленной.
Бедность, или обездоленность, — категория относительная. Ее не следует измерять только в показателях душевого дохода. Более важно то, что население большинства этих стран сопоставляло жизненные условия свои и близких соседей или «Запада» (Балканы, Центральная Европа, «азиатские тигры», Казахстан и Россия) и делало выводы. Не случайно, в число «революционных» не попадают страны с нефтяными доходами, которые даже при отсутствии экономических прорывов демонстрируют неплохие показатели роста и имеют существенный «ресурсный маневр» для компенсации протестных настроений.
Таким образом, главной предпосылкой «цветных революций» служит хорошо известная в политологии кривая «относительной обездоленности», описанная американским политологом Т. Гурром [6]. Не видя для себя и себе подобных перспектив в рамках старого режима, люди поддерживают оппозиционные движения, связывая с ними надежды на обновление власти.
Следующая характерная черта «цветных революций» — параметры общественного размежевания. По понятным причинам, в лагере сторонников «цветных» оказываются социально динамичные слои общества — интеллигенция, малый и средний бизнес, менеджеры новой экономики, студенчество и молодежь. Описывать лагерь сторонников «старого режима» сложнее, но очевидно, что «цветные революции» по ходу ломают главную надежду прежних правителей — на конформистское поведение социально пассивной периферии. Так, за В. Ющенко проголосовало большинство населения на селе и в малых городах Центральной Украины (не говоря уже о Западной). Уже после свершившегося падения режимов новые лидеры (М. Саакашвили и К. Бакиев) получили преобладающую поддержку на президентских выборах.
Иначе говоря, для «цветных революций» важна мобилизация активного меньшинства на коллективные действия, дополненная, по крайней мере, частичным размыванием конформистской культуры поведения — иначе на критических выборах (результаты которых становятся «камнем преткновения») оппозиция не могла бы добиться результата, близкого к «фифти-фифти». Как и во многих других случаях, выделяется Киргизия. На парламентских выборах, предшествовавших падению власти А. Акаева, оппозиция добилась крайне скромных результатов. Хотя она и использовала тему фальсификации выборов в качестве повода для сопротивления, общественные выступления охватили не «продвинутые» слои общества, а социальные низы на родине ее лидера и люмпенизированные элементы в столице (очевидно, небеспочвенна и версия о причастности к этим событиям наркомафии) — отсюда и «насильственный сценарий» развития событий.
Из предыдущей особенности вытекают и поведенческие различия противоборствующих сил. Полуавторитарные режимы во всех случаях демонстрировали неспособность понять ситуацию, выстроить адекватную демократической политической борьбе стратегию действий, недооценивали силу и общественную привлекательность оппозиции. Напротив, «цветные революционеры» владели современными навыками общественной коммуникации, были маневреннее, «злее» в пропагандистской работе, изобретательнее в применении политических технологий, начиная с применения яркого цвета знамен для коллективных действий до создания «хитовых» гимнов (юмористическая песенка про «отъезд» С. Милошевича или «Нас не заломати» на киевском майдане) и управления уличной толпой с экранов телевизоров, настроенных на оппозиционный канал в Маниле. Именно это «преимущество в темпе» коллективных действий позволяло компенсировать перевес власти в административном и иных ресурсах.
Нельзя не отметить и такую особенность «цветных революций», как подчеркнуто легитимистский стиль. Окончательное решение о признании фактов фальсификаций выборов и правовых последствиях (переголосовании или отказе от второго тура в Югославии) принимали верховные судебные инстанции и/или центральные избирательные комиссии. Таким образом, непременным условием успешных «цветных революций» становился нейтралитет судебной власти (что по определению невозможно в чисто авторитарных режимах), а также невмешательство (или скрытые симпатии оппозиции) со стороны армии и других силовых структур. Оговоримся, что подобный нейтралитет объясняется не столько высоким уровнем развития демократии, сколько прагматичным расчетом «судейских» и «силовиков», которые в критический момент осознают контрпродуктивность и даже опасность для страны любых действий, направленных на подавление оппозиции.
Наконец, следует указать на роль столицы в революционном процессе. Именно возможность осуществлять массовое давление на центральные органы власти в немалой степени становилась залогом успеха оппозиции. При этом давление опиралось на симпатии значительной части или большинства столичных жителей. Не исключено, что, будучи организованными в региональных центрах, революционные процессы не имели бы продолжения, так как не парализовали бы действия центральных властей и были бы интерпретированы как сепаратизм или бунт региональных кланов. Кстати, это одна из причин, по которым не имели успеха ответные выступления сторонников В. Януковича в юго-восточных регионах Украины. Приходится и по данному параметру выделять Киргизию: реально массовые выступления против власти имели место не в столице, а на изначально оппозиционном юге страны, тогда как в Бишкеке президентский дворец штурмовала толпа маргинальных элементов.
Особый вопрос: роль Запада
В российском общественном дискурсе о «цветных революциях» максимально распаляются эмоции по поводу поведения Запада во всех упомянутых событиях. Попытаемся очертить некоторые рамки и параметры «руки Запада», которую до сего момента мы сознательно оставляли за скобками. Сразу укажем на главный параметр, который ограничивает эту роль: масштаб электоральной поддержки оппозиции, соразмерной результату, показанному «кандидатом от власти» (или «партией власти»), не мог бы быть достигнут действиями внешних сил. Как указывалось, у «антивластного голосования» имеются объективные и весьма весомые внутренние предпосылки и причины. И все же роль Запада здесь представляется существенной.
Первый и главный (во всяком случае, по силе воздействия на ситуацию) фактор — привлекательность западной модели общественного устройства. Еще пятнадцать лет назад «третью волну демократизации» многие западные авторы выводили из того, что «различные политические силы на капиталистическом Юге и посткоммунистическом Востоке не видят альтернативы вступлению в Северо-Западный проход — пути, который приведет их в Первый Мир» [7]. В начале XXI в. то же стремление опирается на успешный путь «демократизации через интернационализацию», которым прошли страны Центральной Европы. На фоне стагнации отдельных национальных режимов западная модель становится еще более привлекательной, а факт реально возрастающей зависимости успешных стран от Запада не отпугивает элиты европейских постсоветских государств. Они прагматично выбирают между зависимостью от Запада и от России, которая, как отмечалось, утрачивает роль цивилизационного центра.
Второй фактор — «моральная поддержка» Западом антиавторитарных тенденций. В ситуациях «цветных революций» западная трибуна явно «болеет» за оппозицию, причем после первых успехов на Западе наблюдаются отчетливые признаки эйфории (проявившиеся, например, в речи президента США Дж. Буша при получении награды Международного республиканского института)[8]. Эта моральная поддержка («Запад нам поможет») безусловно придает силы и лидерам, и «пехоте» оппозиционных движений. Власть же вынуждена в таких условиях действовать с оглядкой на возможную реакцию Запада, воздерживаться от наиболее одиозных шагов, прежде всего, применения силы или угрозы силой против оппозиции.
Третий фактор — прямая поддержка оппозиции, что выражается в поведении и официальных ведомств, и неправительственных организаций, и западной прессы. Конечно, факт получения оппозицией иностранной помощи (даже в форме тренингов активистов и грантов организациям гражданского общества) — вопрос неоднозначный и деликатный. Однако вряд ли следует преувеличивать абсолютный масштаб этой помощи: по сути, она лишь «выравнивает» (и то частично) условия для политической конкуренции, позволяет оппозиционным структурам получить некоторую степень автономии для своих действий.
Наконец, Запад играет решающую роль в легитимации новы